Дар тому, кто рождён летать
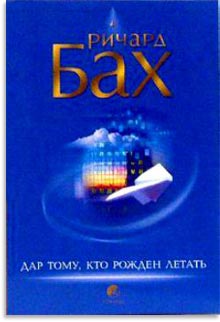
Рассказы
Я никогда не слышал, как шумит ветер.
Я сбил Красного Барона, и что?.
Возвращение пропавшего лётчика.
С масляным манометром — через всю страну.
Свет в ящике для инструментов.
ММРРрроуЧККрелчкАУМ… и праздник в Ла Гуардиа.
Что-то не так с этими чайками.
Пленник технической страсти. Спасите!
Зачем вам самолёт… и как его получить.
Разъездная пропаганда сегодня.
Путешествие в совершенное место.
Мёртвые петли, голоса и страх смерти.
В один прекрасный день египтяне научатся летать.
Приключение на борту летающего дачного домика.
Письмо от богобоязненного человека.
Говорят, нам отведено десять секунд.
Небо везде
Имелось в виду, что я должен написать об этом человеке статью, а вовсе не прикончить его, превратив в холодный труп. Но мне почему-то никак не удавалось заставить его в это поверить — редчайший случай встречи с испуганным до патологического состояния существом.
Я стоял перед ним в полной беспомощности, и все мои попытки что-либо ему втолковать выглядели так, словно я говорил на древнем языке урду.
Я был обескуражен тем, насколько, оказывается, слова могут, в отдельных случаях, быть лишёнными смысла и не производить на человека ровным счётом никакого впечатления.
Человек, которому надлежало стать центральной фигурой повествования, заявил мне прямо, что видит меня насквозь, что я есть шут гороховый, деревенщина, неблагодарный хам и ещё целая банда сомнительных личностей, скрывающихся под потертой кожей моей лётной куртки.
Возможно, несколькими годами раньше я, в качестве эксперимента, и прибегнул бы к насильственным методам установления контакта, но, на этот раз, предпочёл просто развернуться и уйти.
Я вышел в дивный воздух южной ночи и побрёл вдоль берега моря, освещенного мягким светом луны — статья должна была быть о том человеке и его курортном рае.
Две волны обрушились на тёмный пляж и рассыпались мерцающим зеленовато-белым фосфором, прогрохотав мягкими раскатами далекого салюта. Я следил за соленым откатом океана, с нежным шипением медленно скользившего по песку.
Я прогуливался, наверное, полчаса, пытаясь понять того человека и причину возникновения его страхов, но, в конце концов, оставил это занятие, как бесперспективное. И только тогда, оторвав взгляд от земли, я посмотрел вверх.
И там — над фешенебельным курортом, и над морем, над рассеянными взглядами ночных посетителей гостиничных баров, надо мной и над моими мелкими проблемами — было небо.
Я замедлил шаги, а потом и вовсе остановился, прямо там, на песке. За горизонтом на севере начиналось небо, оно восходило из-за края земли и скатывалось куда-то в глубины западного океана, скрываясь за горизонтом на юге. Исполненное покоя и абсолютно неподвижное.
Под ломтиком луны проплывали высокие перистые облака, осторожно несомые едва-едва заметным ветерком. И я заметил в ту ночь то, чего не замечал никогда раньше.
Небо движется, оно течет постоянно, но никогда не истекает. И что бы ни случилось, небо всегда с нами. Небо не подвержено беспокойству и заботам. Мои проблемы для него не существуют, никогда не существовали и никогда не будут существовать.
Непонимание не свойственно небу. Равно, как несвойственна ему и склонность судить. Оно просто есть. Оно есть, независимо от того, желаем мы признать это как факт или же предпочитаем похоронить себя заживо под тысячемильной толщей земли. Или ещё глубже — под непроницаемой крышей тупой рутины и бездумных распорядков.
Спустя год, я зачем-то ездил в Нью-Йорк. Дела не клеились, весь мой актив равнялся двадцати шести центам, ужасно хотелось есть и меньше всего — находиться там, где я находился — в тюрьме предзакатных улиц Манхэттена с их забранными железными решетками окнами и множеством запоров на каждой двери.
Но случилось так, что я сделал то, чего на Манхэттене, конечно, никто обычно не делает. Как в ту ночь у моря, я взглянул вверх. И там — над ущельями Мэдисон Авеню, и Лексингтон Авеню, и Парк Авеню — было небо. Невозмутимое. Неизменное. Тёплое и приветливое, как родной дом.
— Интересно, — подумал я, — как бы путано и неудачно ни складывалась жизнь лётчика, какие бы разочарования на него ни обрушивались, у него всегда остаётся дом, и этот дом неизменно готов его принять.
В каждый миг жизни в запасе у лётчика остаётся радость возвращения в небо — когда можно взглянуть вниз и вверх на облака и сказать себе:
— Я вернулся домой!
Ибо, слова эти всегда живут у него внутри.
— Блеф, пустые слова, — скажет тот, кто прикован к земле, — спустись на землю, взгляни на вещи трезво. Но в моменты безнадежного отчаяния — как тогда на пляже и в этот раз — на Манхэттене — небо возвращает мне свободу. Я поднимаюсь над раздражением и досадой, над злобой и страхом, и я чувствую:
— Эй, а ведь мне всё равно! Я счастлив!
Достаточно просто взглянуть в небо. Так случается, наверное, потому, что лётчик — не просто человек, совершающий дальние путешествия. Возможно, дело в том, что он может ощущать себя счастливым, только находясь дома. А дома он лишь тогда, когда имеет возможность каким-то образом соприкоснуться с небом.